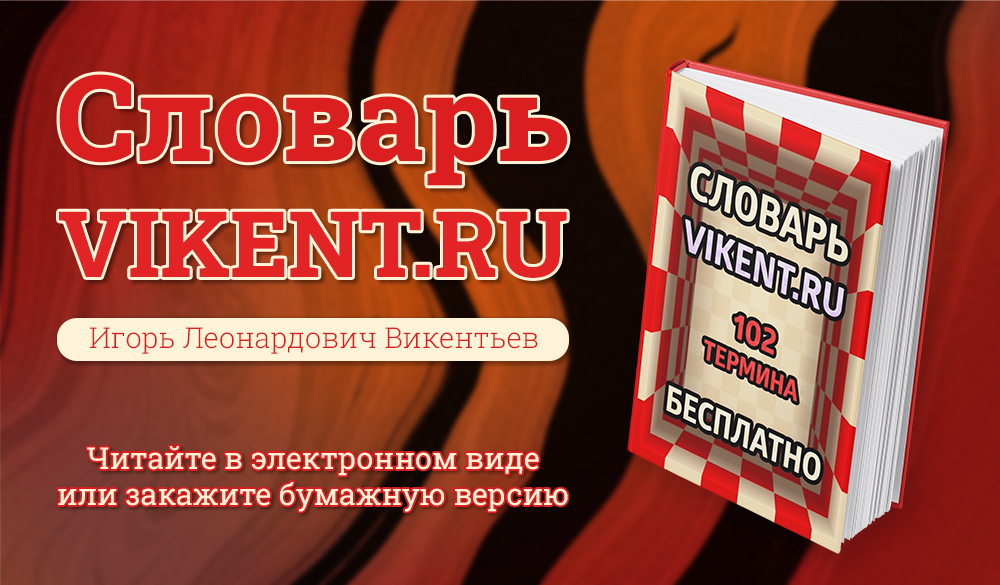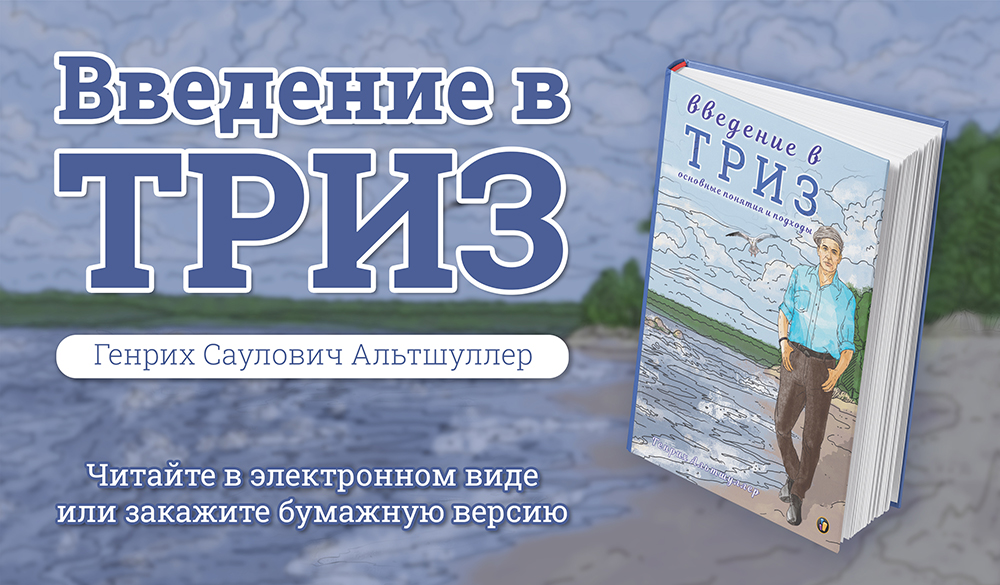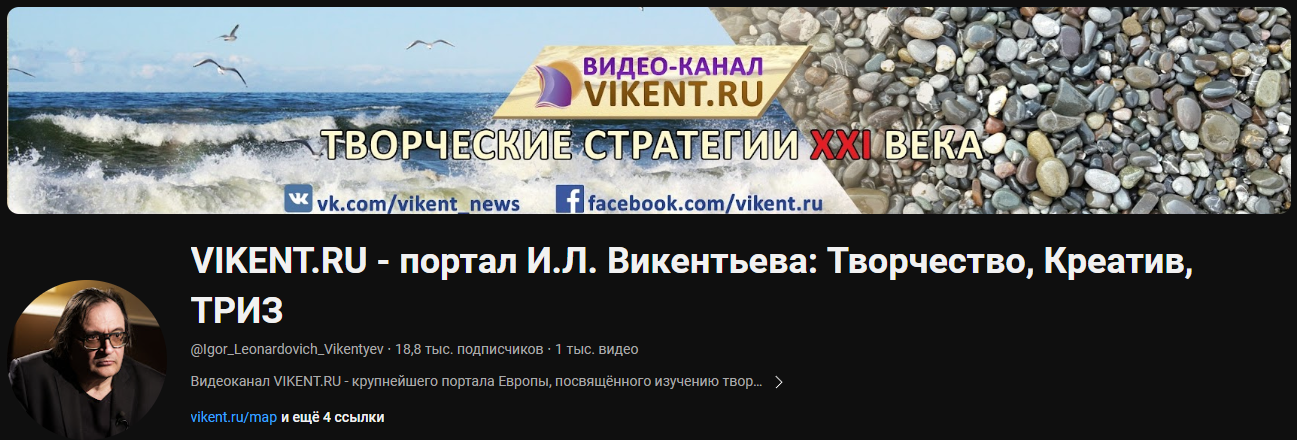Россия (СССР)
Отечественный актёр и режиссёр театра и кино.
«Он сызмала стремился к совершенству. В альбоме, который Елена Санаева выпустила к его 70-летию, приведены отрывки из юношеских дневников: «Надо начинать работать над собой! Чего во мне нет? Организованности и образования. Я окончательный профан: перешёл в девятый класс, не прочитав хотя бы нескольких русских классиков... Прошло пять месяцев жизни. Много ли я за них сделал? Очень мало! Просто мизерно. Как далеко мне до идеала. Просто до человека далеко... Я себе ставил задачи: 1 - не врать, 2 - не болтать, 3 - не позировать, 4 - не терять времени. Надо сказать, по всем четырём пунктам я сделал довольно много. Хочется видеть Злату...». Впрочем, это девятнадцатилетний Ролан уже о другом.
Он был талантлив во всем, за что брался. Играл в театре и кино, писал стихи, статьи, эпиграммы, рисовал, ставил спектакли и фильмы, придумывал проекты «русского Голливуда», создавал Детский фонд и новую виртуальную реальность для детского кино, помогал киностудиям большим и малым. Оставил нам лучезарные фильмы - они светятся добром и счастьем жизни. И только его стихи показывают, чего стоило это добро и какое отчаяние мучило его вечерами».
Кичин В.С., Заплыв в серной кислоте / Там, где бродит Глория Мунди: лента встреч, М., «Время», 2011 г., с. 25.
«Мне отказали в приёме три художественных вуза: ГИТИС, ВГИК и Школа-студия МХАТ. Я был близок к самоубийству, потому что не мыслил себя без театра. Спасибо, друзья надоумили пойти в Щукинское училище. Пошёл - и был принят. Вот так впервые сложилась моя формула везения: надо было не попасть в три института, чтобы поступить в четвёртый, наиболее близкий мне по творческой сути, находящийся в расцвете; и в ту пору - в начале 50-х годов - несомненно лучший в стране.
Уже на втором курсе Р.Н. Симонов пригласил меня в театр Вахтангова: я стал «знаменитым» студентом, и перед выпуском мне даже не пришло распределение - всё было и так ясно. Но... в театр Вахтангова меня не приняли. Рубен Николаевич уехал на три месяца, оставив в отделе кадров обо мне записку, которую там не удосужились даже прочитать. Мне сказали: «Молодой человек, будьте скромнее, если бы надо было, комиссия вас бы рекомендовала».
Вместо театра я попал в больницу с прободением язвы - это было следствием слишком напряжённого учебного цикла в «щукинке»: расписание вбирало в себя весь день с утра до ночи, и никто и в мыслях не держал профилонить какой-нибудь урок, потому что педагогами были Симонов, Захава, Ман-сурова, Поисова, Кольцов - им буквально смотрели в рот.
Я плакал, но не от физической боли, а от душевной. Ведь два года мне все завидовали: второкурсника пригласил в театр сам Симонов! И вдруг такой пассаж.
У меня появилась мысль податься в режиссуру, но один из моих приятелей сказал, что в режиссёры идут неудавшиеся актёры. «Чего это - я такой неудавшийся актёр?» - взыграло во мне мальчишеское самолюбие, и я показался в три театра. И все три меня приняли. Пригласил меня Ю.А. Завадский с очень хорошими словами: «Я вижу что-то стоящее за Вами, я вижу Ваше будущее - оно прекрасно». Пригласили меня в театр на Таганке - тогда им руководил Плотников. И пригласили в московский ТЮЗ».
Быков Р.А., Формула везения: через боль и невзгоды, в Сб.: Слово не воробей... / Сост.: Ю.Т. Шилов, М., «ПанЪинтер», 2001 г., с. 359.
Р.А. Быков работал режиссёром в ТЮЗе, позже возглавил театр МГУ.
Вспоминает вторая жена – Елена Санаева: «Но в опале был постоянной. Когда он принёс заявку на фильм «Риголетто», тогдашний зампред по кинематографии Баскаков стучал по столу: «Ну что вас так волнует власть?!»
И «Риголетто» не состоялся. Пятнадцать лет пробивал «Ревизора», пять лет этот фильм даже стоял в плане, пока председатель Госкино Ермаш не сказал: «Нет, мы этого сейчас делать не будем - не своевременно!» И отдал постановку Гайдаю.
Дивный комедиограф, автор обожаемых всеми фильмов, но было ясно, что никакого подвоха ждать от Гайдая не приходится, и власти могли быть спокойны. А уж какие аллюзии возникли бы у Быкова - можно догадаться.
Ему тяжко было плыть в серной кислоте и при этом ставить мировые рекорды. А ведь чем крупнее художник, тем больше он спорит со смертью. Выиграть этот спор невозможно, но бросить ей вызов было необходимо. Для этого нужны силы, нужна поддержка. И рядом должна была быть женщина, которая его абсолютно понимает. Он мне сказал: «Нет, Лена, я без любви жить не согласен, я умру без любви». Он сам так щедро источал любовь, что ему нужна была подпитка. Он её получал, и в этом, думаю, был счастливым человеком. Хотя...
Я прочитала у Достоевского фразу: «Он любил её до ненависти, и нет ничего сильнее этой любви». Кто понимает это, тот сохраняет свою любовь до смерти. Бывают же ситуации, когда мать чувствует ненависть к своему ребёнку, мужчина чувствует ненависть к любимой женщине. И вот если они эту ненависть могут преодолеть - тогда только смерть может разлучить этих людей. Так я думаю.
А из увлечений? Увлечение у него было одно: потрепаться. Он был замечательный собеседник и умел хорошо слушать. Мог ехать в такси и рассказывать шоферу о замысле новой картины. Я его спросила: «А зачем ты шофёру-то рассказываешь?» Он ответил: «Я пеленгуюсь. Я должен понимать, в каких я широтах». И продолжал всем рассказывать о замыслах и ролях. Но было немного таких, с кем он мог разговаривать на своём уровне. Как говорил Зорин, талантливых людей хватает, но талантливые и умные - большая редкость. В нём это счастливое сочетание было.
Иногда мне просто плакать хотелось от сознания, что только я одна слышу его импровизацию. Он был человек настолько живородящий, мог развивать мысль так причудливо, широко, вольно, остроумно и парадоксально, что на глазах рождался шедевр. И я думала: Господи, вот были бы сейчас тут блестящие журналисты, философы, режиссёры, какой живительный бульон они бы тут нашли! […]
Помню, я только что пришёл работать в газету «Советское кино», и там все толковали о «порочном фильме» «Айболит-66». А я никак не мог понять, в чём его порочность.
Сначала картина вышла триумфально, потом ее тихо прикрыли. Но она свое взяла: её даже пускали в «мёртвое время» на сеансе в девять утра и она собирала полные залы. А «порочная» - потому что выискивались аллюзии. «Это даже хорошо, что пока нам плохо!» - пели герои, и тут же возникал вопрос: значит, нам плохо? Мы, понимаешь, идем от победы к победе, и нам - плохо?! Что там поют эти непонятные бармалеи: «Нормальные герои всегда идут в обход»? И это в стране с таким славным героическим прошлым, настоящим и будущим?! Мы покоряем, прокладываем, побеждаем, а тут какой-то деятель с музычкой и танцами ставит палки в колеса! Кому это может быть плохо, если нашему поколению обещано, что оно будет жить при коммунизме?! Что за фиги в кармане? Кроме этих мифических фиг они уже ничего не видели».
Кичин В.С., Заплыв в серной кислоте / Там, где бродит Глория Мунди: лента встреч, М., «Время», 2011 г., с. 27-28 и 30.
В 1990-х годах Р.А. Быков - создатель и руководитель Международного Фонда развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд Ролана Быкова»).
Вспоминает Елена Санаева: «Детский фонд - это была тяжелейшая ноша. Поначалу - прекрасные мечты, планы, из которых многие реализовались. А потом всё тяжелее. Экономические потрясения в стране нарастали, и всё меньше было возможностей найти деньги на съёмки. Но Фонд снял семьдесят картин! И это когда наш кинематограф практически умер, когда кинотеатры превратились в мебельные салоны! Это были фильмы без мата, без крови и голых задов. Получали на фестивалях призы, но зрителям их не показывали.
Ролан пришёл к Ельцину: у меня есть тридцать четыре картины, и я хочу их подарить российскому телевидению. Ельцин его обнял, кому-то позвонил, и двенадцать фильмов показали... рано утром. А потом спросили: кто будет платить за телевизионное время?
Понимаете, мало найти денег и снять картину - так ещё и плати за то, что её покажут! Ролан был членом Президентского совета по культуре, уже существовала программа «Дети России», и он хотел в эту программу вписаться со своим проектом «Дети, экран, культура». В СССР для детей было создано очень много фильмов и спектаклей, действовала огромная программа. Все это растащили, всё надо было собирать заново. Идея была такова: привлечь Минобразования, Академию педагогических наук, Союз кинематографистов, Главкосмос - и запустить спутник, чтобы в каждую школу пришли фильмы о Пушкине, Толстом, Чехове, о музеях, Михаил Козаков и Сергей Юрский прочитали бы стихи...
Ведь сегодня талантливому мальчику из бедной семьи где-нибудь в Белореченске почти невозможно повторить судьбу Ломоносова!
А модель образования, которую нам предлагают, даст подобие «фастфудов», интеллектуальных «макдоналдсов»: появятся «быстрые мозги», напитанные романами Донцовой, и хорошего ждать от таким образом воспитанных детей уже нельзя.
Какие тут могут быть прорывы - экономические, философские, научные!
От всего этого страшно болела душа его. Он ведь глубоко разбирался в системе воспитания, он этому посвятил свою жизнь. Но его программу даже запустить не удалось.
- А что с ней произошло?
- Все были «за». Но только за то, чтобы её просчитать, нужно было заплатить 300 миллионов, а где их взять? И из Минфина пришел отказ. Ещё он мечтал о создании натурной площадки в Сочи, даже договорился, что там построят свой Диснейленд с замками и чудовищами, с возможностями для съёмок кинофантастики и сказок. Он говорил: «Я готов отдать эту идею тем, у кого есть деньги, пусть богатеют - но пусть строят. Но я боюсь, что вместо замков там опять будут показывать голые задницы, как на нашем родном телевидении».
Кичин В.С., Заплыв в серной кислоте / Там, где бродит Глория Мунди: лента встреч, М., «Время», 2011 г., с. 32-33.
Вспоминает кинорежиссёр Алексей Герман: «Подбор актёров в картине - исключительный, но, конечно, центром её с самого начала предстает персонаж Ролана Быкова, командир партизанского отряда Локотков.
Ролан - один из очень немногих людей, которых можно назвать словом «гений».
Если талант - это сумма способностей, то Быков - просто гений. Гениальный русский актёр.
Достаточно это понять, если посмотреть его в «Андрее Рублёве», «Приключениях Буратино» и «Комиссаре». Он мог плохо сыграть, мог вдруг говорить что-то о том, что «мы - помощники партии». Мог не быть готовым, мог предложить глупость... но при этом он был гений: Быков мне был необходим. Он должен был, как мне казалось, толстовского Тушина сыграть. И я его необыкновенно почитал - хотя мы ссорились невероятно. Я Ролика очень любил, но частично и ненавидел. Например, он брал деньги в долг и никому не отдавал - его всё время собирались бить светотехники, а мы его постоянно отмазывали».
Герман: Интервью. Эссе. Сценарий, Книга А. Долина, М., «Новое литературное обозрение», 2011 г., с.134-135.
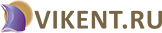

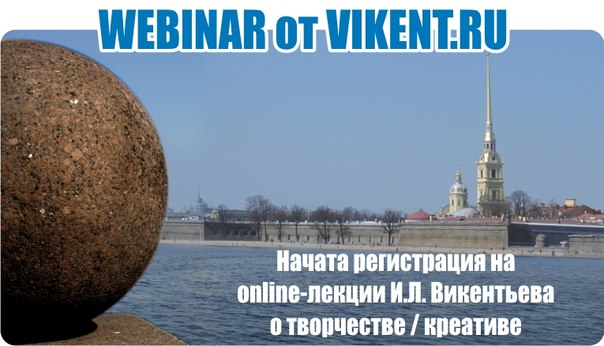
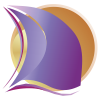 Регистрация на конференц
Регистрация на конференц Страница конференции во ВКонтакте:
Страница конференции во ВКонтакте: