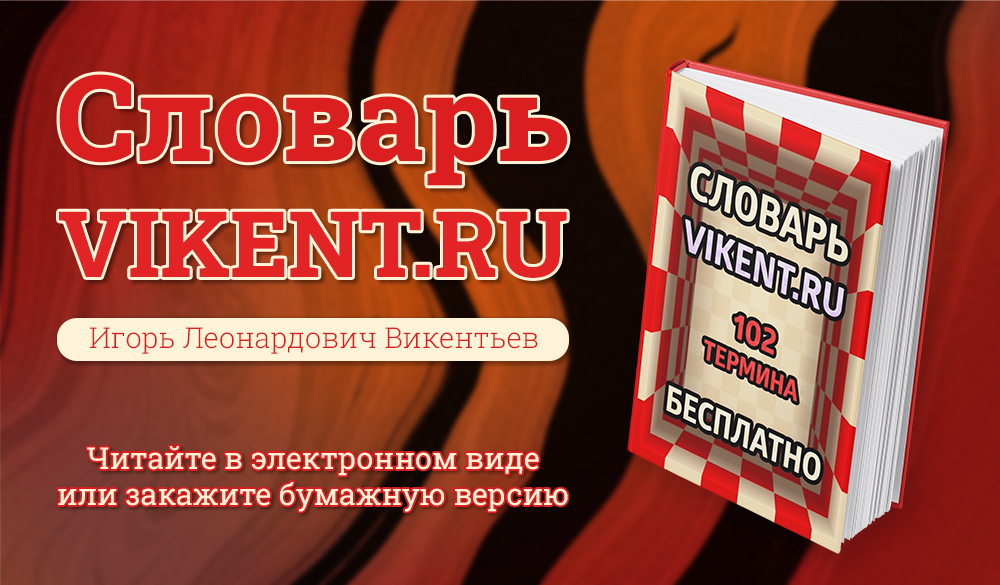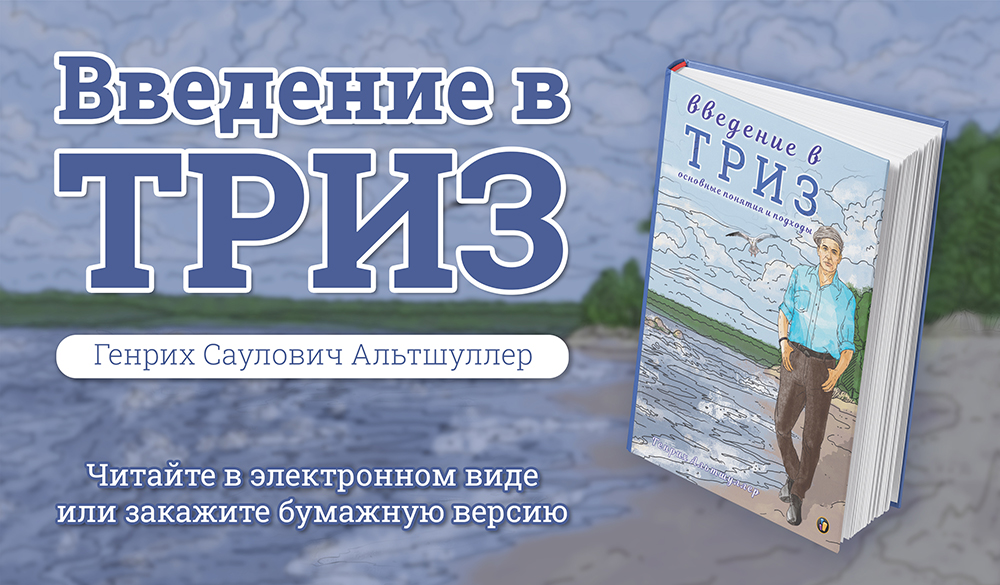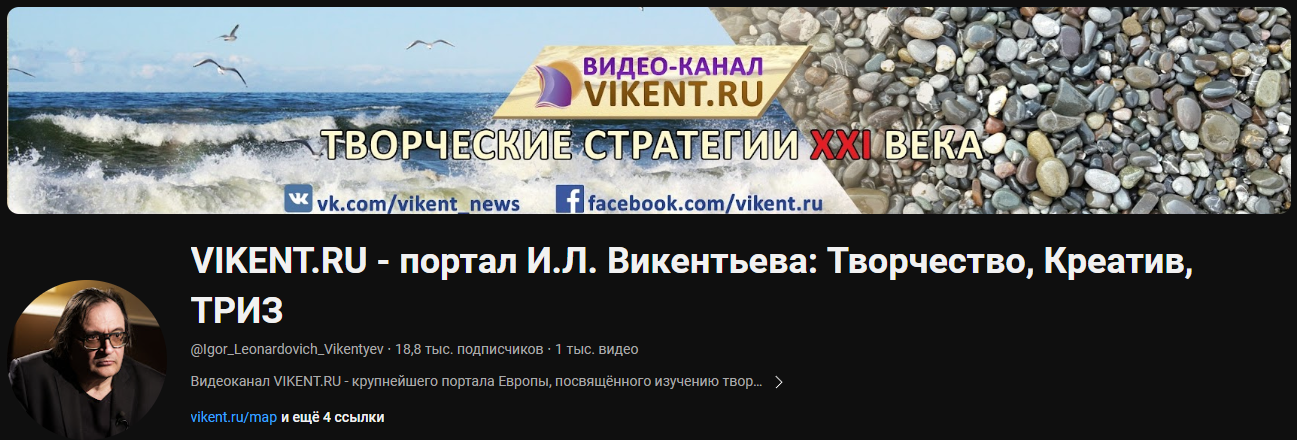Россия (СССР)
Русский филолог, переводчик, поэт. Лидер символистов Санкт-Петербурга.
В пять лет Вячеслав Иванов потерял отца его и воспитательницей стала мать, в мутной душе которой восхищение перед В.Г. Белинским мирно уживалось с любовью к церковной духовности...
«В Берлинском университете Иванов стал участником семинара выдающегося знатока древней истории Т. Моммзена и, проучившись под его опёкой девять семестров, к 1895 году намеревался представить на суд учителя написанную по-латыни докторскую диссертацию о системе государственных откупов в Древнем Риме. Научной карьере Иванова-историка, сполна вооружённого всем арсеналом «фаустовской» университетской премудрости (в Берлине Иванов открыл для себя Гёте, Новалиса, Шопенгауэра, Р. Вагнера, немецких мистиков, а также Хомякова и Вл. Соловьёва), помешал ряд обстоятельств. Его интересы всё больше смещались в сторону античной филологии как своего рода универсального метода для изучения морфологии культуры. Но воплощением таким образом понимаемой античности стало для Иванова отнюдь не восходящее к И. Винкельманну нормативное знание, а стремительно входивший в начале 1890-х годов в интеллектуальную моду Ф. Ницше. Именно ему Иванов обязан открытием стихийного «духа» Диониса, или первопринципа творческой энергии, пронизывающей своими хмельными токами культ, культуру и человека в их «органическом» единстве».
Толмачёв В.М., Саламандра в огне. О творчестве Вяч. Иванова – предисловие к книге: Иванов В.И., Родное и вселенское, М., «Республика», 1994 г., с. 4.
«Поэзия Иванова, подобно поэзии Гетё, одного из его духовных учителей, возрождает «старинную истину» мистического тайновидения вещей, стремления к высочайшему бытию.
«И Сокровенное Явленьем облеки
И Несказанное - Глаголом!»
- в этом назначение творчества. Тайновидение неотделимо от прославления всеединства мира. С ним связаны дионисийские истоки творчества. Творец-пророк-преображённый, видя мир в славе в своей особой восприимчивости, возвещает: «благоволение и мир»».
Крохина Н.П., Поэтическая софиология Вяч. Иванова, в Сб.: Синтез в русской и мировой художественной культуре: Материалы V-й научно-практической конференции, посвящённой памяти А.Ф. Лосева, М., 2005 г., с. 133.
С 1905 года В.И. Иванов жил в Санкт-Петербурге на Таврической улице в квартире, расположенной на последнем этаже угловой башни дома № 25. Вскоре «башня», в которой еженедельно проводились «Ивановские среды», стала известным литературно-философским салоном Санкт-Петербурга.
«Посещать «башню» считалось почётным. Всё равно что получить своего рода диплом на принадлежность к высшему слою интеллигенции. Хозяин «башни» был человек разносторонне образованный, настоящий учёный-энциклопедист. Однажды он помогал дочери сделать домашнее задание по немецкому языку: надо было сравнить произведения Шиллера и Гёте. Иванов написал для дочери это сочинение на изящном старинном языке прошедшей эпохи, который был присущ обоим поэтам. Конечно, преподаватель подумал, что это сочинение списано со старой книги. На «башне» перебывала вся литературная, художественная, музыкальная элита Петербурга и Москвы. Гости и друзья не только приходили, но даже останавливались: кто на два-три дня, кто и надолго. Когда стало не хватать двух квартир, пришлось проломить стену и вставить дверь, соединяющую ещё и с третьей квартирой. В ней одно время жил Михаил Кузмин. За обедом на «башне» всегда сидели человек восемь-девять и больше. Обед затягивался, самовар не переставал работать до поздней ночи. Кто только не сиживал за столом: крупные писатели, поэты, философы, художники, актёры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты, оккультисты; люди полусумасшедшие на самом деле и другие, выкидывающие что-то для оригинальности; декаденты, экзальтированные дамы. Как пишет Лидия Иванова, дочь поэта, разговоры были оживлённые, но непонятные. Матрёша, кухарка, однажды сказала ей: «Странно! Говорят по-русски? А ничего нельзя понять!»
Старкина С.В., Велимир Хлебников, М., «Молодая гвардия», 2007 г., с. 53.
«Николай Бердяев писал про Вячеслава Иванова, что его «соблазняло владение душами». А Ахматова как-то заметила в своём дневнике: «Конечно, Вячеслав и шармёр и позёр, но ещё больше хищный, расчётливый ловец человеков». У Наймана в его книге «Рассказы о Анне Ахматовой» есть записанные им за Ахматовой строчки: «Я рождена, чтобы разоблачать Вячеслава Иванова. Это был великий мистификатор, граф Сен-Жермен. Его жена Зиновьева-Аннибал умирает от скарлатины: в деревне, в несколько дней - просто задыхается. Он начинает жить с её дочерью от первого мужа, четырнадцати лет. У той ребёнок от него, какой-то попик в Италии незаконно их венчает... Он впивался в людей и не отпускал потом - «ловец человеков». В оксфордской книжке «Свет вечерний» его портрет: 82-летний старик с церковной внешностью, но - ни ума, ни покоя, ни мудрости - одни подобия». А Евгений Рейн вспоминает другой рассказ Ахматовой о Вячеславе Иванове. Как она первый раз пришла к нему днём в гости и прочитала свои стихи и как он её хвалил, но вечером, когда в «Башне» собрались гости и Ахматова при всех прочитала те же стихи, Вячеслав Иванов разнёс их в пух и прах. «Так выпали литературные карты в вечерней игре Вячеслава Иванова, так было нужно для его вождистской политики. Больше на «башню» меня не тянуло, да и акмеизм сделал из всех этих великих жрецов фигуры отчасти забавные», - говорила Ахматова».
Демидова А.С., Ахматовские зеркала: комментарий актрисы, М., «Аст», 2020 г., с. 141.
Вячеслав Иванов считал, что теургия – «... высшая форма символизма, особый вид идеальной духовной деятельности, направленной на преобразование жизни - «жизнетворение». Поскольку акт творчества требует от художника «подвига души», он связан с личностью. Символизм, считает Иванов, восстанавливает слово «поэт» в старом значении - как личность: «Единственное задание, единственный предмет всякого искусства есть Человек. Но не польза человека, а его тайна. Другими словами - человек, взятый по вертикали, в его свободном росте вглубь и ввысь. С большой буквы написанное имя Человек определяет собою содержание всего искусства; другого содержания у него нет. Вот почему религия всегда умещалась в большом и истинном искусстве; ибо Бог на вертикали человека».
Иванов В.И., Мысли о символизме / Родное и вселенское, М., «Республика», 1994 г., с. 198.
«Истинный символизм должен примирить Поэта и Чернь в большом всенародном искусстве. Минует срок отъединения. Мы идём тропой символа к мифу. Большое искусство - искусство мифотворческое. Из символа вырастет искони существовавший в возможности миф, это образное раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения народного и всенародного».
Иванов В.И., Поэт и чернь / Родное и вселенское, М., «Республика», 1994 г., с. 142.
В 1924 году В.И. Иванов уехал за границу.
На мировоззрение В.И. Иванова наибольшее влияние оказали Фридрих Ницше, Новалис и В.С. Соловьёв.
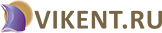

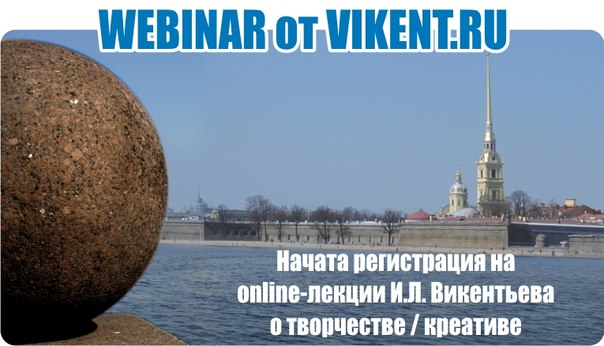
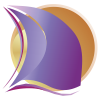 Регистрация на конференц
Регистрация на конференц Страница конференции во ВКонтакте:
Страница конференции во ВКонтакте: